Пограничные состояния Интерсубъективный взгляд
"Случай Каролин"
Отрывок из 8й главы книги "Клинический психоанализ. Интерсубъективный подход" Роберт Столороу, Бернард Брандшафт, Джордж Атвуд.
Photo by Jason Dent on Unsplash
Мы рассматриваем различные расстройства Я скорее как точки, произвольно расположенные на протяжении некоторого континуума (см. Adler, 1981), нежели как дискретные диагностические сущности. Расположение этих точек на континууме определяется тем, какова степень повреждения и уязвимости самоощущения, насколько остра угроза его дезинтеграции и насколько неотложными в мотивационном отношении являются самовосстановительные усилия,— в зависимости от этого диагностируются различные патологические состояния. Степень тяжести расстройства может быть оценена с учетом трех основных характеристик ощущения Я: его структурной цельности, временной стабильности и аффективной окрашенности (Stolorow and Lanchmann, 1980).
У некоторых пациентов самоощущение имеет негативную окраску (переживания, определяющие низкую самооценку), но характеризуется по преимуществу временной стабильностью и структурной цельностью. Такие случаи мы можем считать легкими расстройствами Я. У других пациентов, помимо негативной окрашенности самоощущения, отмечается еще и временная нестабильность его организации (переживания, касающиеся спутанности идентичности), однако, несмотря на периодические проявления фрагментации, в целом Я у них обладает структурной цельностью. Такие случаи можно назвать расстройствами Я средней тяжести. В третьей группе пациентов самоощущение негативно окрашено, нестабильно во времени, но, кроме того, испытывает недостаток целостности и поэтому подвержено затяжной структурной фрагментации и дезинтеграции. Такие случаи могут быть обозначены как весьма серьезные расстройства Я. В самых общих чертах пациенты, которых называют «пограничными», попадают примерно в диапазон между средней и сильной степенью расстройства Я.
Наша концепция расстройства Я как континуума или измерения психопатологии некоторым образом расходится с ранним кохутовским видением «пограничного состояния» как дискретной и четко отделенной от нарциссических личностных расстройств диагностической сущности. В соответствии с этим взглядом пограничная личность переживает хроническую угрозу возможности необратимой дезинтеграции Я-психологической катастрофы, которая более или менее успешно предотвращается благодаря различным характерным для пограничного функционирования проективным операциям. Такая уязвимость по отношению к перманентному срыву Я является результатом травматически сокрушительной и депривирующей истории развития, в которой не обнаруживается даже минимальной консолидации архаичного грандиозного Я и идеализированного родительского имаго. Следовательно, в отличие от нарциссической личности пограничный пациент не способен сформировать стабильный зеркальный или идеализированный Я-объектный перенос, а потому не поддается анализу классическим методом.
Наши взгляды, в противовес концепции Кохута, совпадают с наблюдениями аналитиков, дающих примеры анализа пограничных личностей, в работе с которыми терапевт был способен помочь пациенту постепенно сформировать стабильный и анализируемый Я-объектный перенос (Adler,1980,1981; Tolpin, 1980). Справедливо, что Я-объектные отношения, формирующиеся у так называемых «пограничных» пациентов, первоначально гораздо более примитивны и интенсивны, а также более лабильны и уязвимы к срывам. Вследствие этого такие пациенты в большей степени подвергают испытанию эмпатию и терпимость терапевта (Adler, 1980, 1981, Tolpin, 1980), чем те, которые были описаны Кохутом в качестве характерных нарциссических личностей. Поэтому, когда Я-объектные отношения пациента со средним или сильным расстройством Я встречают затруднения или прерываются из-за неверного понимания или из-за расставания, то реакции пациента могут быть чрезвычайно разрушительными и катастрофичными.
Дело в том, что в случае этих пациентов угрозе подвергается не только аффективный тон их самоощущения, но и центральная саморегуляторная способность, а следовательно, базисная структурная интеграция и стабильность самоощущения(Adler, 1980, 1981; Stolorow and Lanchmann, 1980). И наоборот, если архаические состояния и потребности в достаточной степени поняты, этим пациентам можно помочь сформировать более или менее стабильные Я-объектные переносы, причем после их установления так называемые пограничные свойства этих пациентов отступают или даже исчезают. Пока Я-объектная связь с терапевтом остается неповрежденной, их лечение имеет большое сходство с описанными Кохутом случаями анализа нарциссических личностных расстройств (Adler, 1980,1981 ).
Когда Я-объектная связь с аналитиком подвергается существенному срыву, пациент вновь может продемонстрировать пограничные свойства.
Мы хотим подчеркнуть, что возможность развить и сохранить стабильные Я-объектные отношения (которая, в свою очередь, формирует очевидную диагностическую картину и оценку анализируемости) зависит не только от патологии ядерного Я пациента. Она также зависит от степени способности терапевта постигать природу архаического субъективного мира пациента (Tolpin, 1980),когда начинает структурироваться микрокосм терапевтического переноса.
Мы рассматриваем различные расстройства Я скорее как точки, произвольно расположенные на протяжении некоторого континуума (см. Adler, 1981), нежели как дискретные диагностические сущности. Расположение этих точек на континууме определяется тем, какова степень повреждения и уязвимости самоощущения, насколько остра угроза его дезинтеграции и насколько неотложными в мотивационном отношении являются самовосстановительные усилия,— в зависимости от этого диагностируются различные патологические состояния. Степень тяжести расстройства может быть оценена с учетом трех основных характеристик ощущения Я: его структурной цельности, временной стабильности и аффективной окрашенности (Stolorow and Lanchmann, 1980).
У некоторых пациентов самоощущение имеет негативную окраску (переживания, определяющие низкую самооценку), но характеризуется по преимуществу временной стабильностью и структурной цельностью. Такие случаи мы можем считать легкими расстройствами Я. У других пациентов, помимо негативной окрашенности самоощущения, отмечается еще и временная нестабильность его организации (переживания, касающиеся спутанности идентичности), однако, несмотря на периодические проявления фрагментации, в целом Я у них обладает структурной цельностью. Такие случаи можно назвать расстройствами Я средней тяжести. В третьей группе пациентов самоощущение негативно окрашено, нестабильно во времени, но, кроме того, испытывает недостаток целостности и поэтому подвержено затяжной структурной фрагментации и дезинтеграции. Такие случаи могут быть обозначены как весьма серьезные расстройства Я. В самых общих чертах пациенты, которых называют «пограничными», попадают примерно в диапазон между средней и сильной степенью расстройства Я.
Наша концепция расстройства Я как континуума или измерения психопатологии некоторым образом расходится с ранним кохутовским видением «пограничного состояния» как дискретной и четко отделенной от нарциссических личностных расстройств диагностической сущности. В соответствии с этим взглядом пограничная личность переживает хроническую угрозу возможности необратимой дезинтеграции Я-психологической катастрофы, которая более или менее успешно предотвращается благодаря различным характерным для пограничного функционирования проективным операциям. Такая уязвимость по отношению к перманентному срыву Я является результатом травматически сокрушительной и депривирующей истории развития, в которой не обнаруживается даже минимальной консолидации архаичного грандиозного Я и идеализированного родительского имаго. Следовательно, в отличие от нарциссической личности пограничный пациент не способен сформировать стабильный зеркальный или идеализированный Я-объектный перенос, а потому не поддается анализу классическим методом.
Наши взгляды, в противовес концепции Кохута, совпадают с наблюдениями аналитиков, дающих примеры анализа пограничных личностей, в работе с которыми терапевт был способен помочь пациенту постепенно сформировать стабильный и анализируемый Я-объектный перенос (Adler,1980,1981; Tolpin, 1980). Справедливо, что Я-объектные отношения, формирующиеся у так называемых «пограничных» пациентов, первоначально гораздо более примитивны и интенсивны, а также более лабильны и уязвимы к срывам. Вследствие этого такие пациенты в большей степени подвергают испытанию эмпатию и терпимость терапевта (Adler, 1980, 1981, Tolpin, 1980), чем те, которые были описаны Кохутом в качестве характерных нарциссических личностей. Поэтому, когда Я-объектные отношения пациента со средним или сильным расстройством Я встречают затруднения или прерываются из-за неверного понимания или из-за расставания, то реакции пациента могут быть чрезвычайно разрушительными и катастрофичными.
Дело в том, что в случае этих пациентов угрозе подвергается не только аффективный тон их самоощущения, но и центральная саморегуляторная способность, а следовательно, базисная структурная интеграция и стабильность самоощущения(Adler, 1980, 1981; Stolorow and Lanchmann, 1980). И наоборот, если архаические состояния и потребности в достаточной степени поняты, этим пациентам можно помочь сформировать более или менее стабильные Я-объектные переносы, причем после их установления так называемые пограничные свойства этих пациентов отступают или даже исчезают. Пока Я-объектная связь с терапевтом остается неповрежденной, их лечение имеет большое сходство с описанными Кохутом случаями анализа нарциссических личностных расстройств (Adler, 1980,1981 ).
Когда Я-объектная связь с аналитиком подвергается существенному срыву, пациент вновь может продемонстрировать пограничные свойства.
Мы хотим подчеркнуть, что возможность развить и сохранить стабильные Я-объектные отношения (которая, в свою очередь, формирует очевидную диагностическую картину и оценку анализируемости) зависит не только от патологии ядерного Я пациента. Она также зависит от степени способности терапевта постигать природу архаического субъективного мира пациента (Tolpin, 1980),когда начинает структурироваться микрокосм терапевтического переноса.
Когда она начала описываемый здесь анализ, ей было 42 года. Ее последний анализ окончился примерно три года назад: по словам аналитика, он не чувствовал, что может дать ей что-то еще. С тех пор она занимала себя различными делами. Она вернулась в колледж для того, чтобы завершить свое образование, которое она прервала много лет назад, незадолго до замужества. Кроме того, она участвовала в благотворительной и социальной деятельности, стремясь «чувствовать себя нужной» и занятой. Периодически она находилась в состоянии более или менее постоянной тревоги, временами становилась гиперактивной, в другие моменты — замкнутой, апатичной, теряя способность что-либо делать. С самого начала лечения она проявила себя как испуганная маленькая девочка, выражая ощущаемый ею дискомфорт, а нередко и просто ужас. Она почти всегда избегала смотреть в глаза аналитику. В первую неделю лечению она прямо говорила, что не верит в возможность чьей-либо помощи и не видит путей разрешения своих трудностей. Постепенно выяснилось, что настоящее плачевное состояние началось примерно десять лет назад, вслед за ухудшением отношений с мужем (с которым они до того были женаты около двенадцати лет).
Хотя Каролина была тогда вполне привлекательной молодой женщиной, ее застенчивость и неуверенность, а также пуританское воспитание ограничили ее развитие как в социальном, так и в сексуальном отношении. Собственно, муж и был первым мужчиной, с которым у нее сложились серьезные отношения. Она была подающей надежды студенткой (ее выраженный интеллект становился все более явным по мере прогресса лечения), но оставила учебу после замужества, чтобы поддержать мужа, который учился тогда в юридическом колледже и стремился сделать карьеру. Позже, когда муж начал работать, она ради него содержала дом, во многом ему помогала, воспитывала родившегося у них ребенка, а кроме того, занималась небольшим бизнесом, который обеспечивал им финансовую поддержку. Несмотря на это, их взаимоотношения стали более натянутыми, напряженными и конфликтными: муж все чаще проявлял недовольство, ему не нравились ее акцент, ее вес, ее тревога и депрессия. Закончилось все «пограничным» состоянием с прогрессирующими апатией, ипохондрическими симптомами и переживаниями омертвения, которые достигли крайнего предела и угрожали поглотить все ее тело, а также тревожными и бредовыми подозрениями, что муж приносит ей вред, отравляет и убивает ее.
Когда она начала описываемый здесь анализ, ей было 42 года. Ее последний анализ окончился примерно три года назад: по словам аналитика, он не чувствовал, что может дать ей что-то еще. С тех пор она занимала себя различными делами. Она вернулась в колледж для того, чтобы завершить свое образование, которое она прервала много лет назад, незадолго до замужества. Кроме того, она участвовала в благотворительной и социальной деятельности, стремясь «чувствовать себя нужной» и занятой. Периодически она находилась в состоянии более или менее постоянной тревоги, временами становилась гиперактивной, в другие моменты — замкнутой, апатичной, теряя способность что-либо делать. С самого начала лечения она проявила себя как испуганная маленькая девочка, выражая ощущаемый ею дискомфорт, а нередко и просто ужас. Она почти всегда избегала смотреть в глаза аналитику. В первую неделю лечению она прямо говорила, что не верит в возможность чьей-либо помощи и не видит путей разрешения своих трудностей. Постепенно выяснилось, что настоящее плачевное состояние началось примерно десять лет назад, вслед за ухудшением отношений с мужем (с которым они до того были женаты около двенадцати лет).
Хотя Каролина была тогда вполне привлекательной молодой женщиной, ее застенчивость и неуверенность, а также пуританское воспитание ограничили ее развитие как в социальном, так и в сексуальном отношении. Собственно, муж и был первым мужчиной, с которым у нее сложились серьезные отношения. Она была подающей надежды студенткой (ее выраженный интеллект становился все более явным по мере прогресса лечения), но оставила учебу после замужества, чтобы поддержать мужа, который учился тогда в юридическом колледже и стремился сделать карьеру. Позже, когда муж начал работать, она ради него содержала дом, во многом ему помогала, воспитывала родившегося у них ребенка, а кроме того, занималась небольшим бизнесом, который обеспечивал им финансовую поддержку. Несмотря на это, их взаимоотношения стали более натянутыми, напряженными и конфликтными: муж все чаще проявлял недовольство, ему не нравились ее акцент, ее вес, ее тревога и депрессия. Закончилось все «пограничным» состоянием с прогрессирующими апатией, ипохондрическими симптомами и переживаниями омертвения, которые достигли крайнего предела и угрожали поглотить все ее тело, а также тревожными и бредовыми подозрениями, что муж приносит ей вред, отравляет и убивает ее.
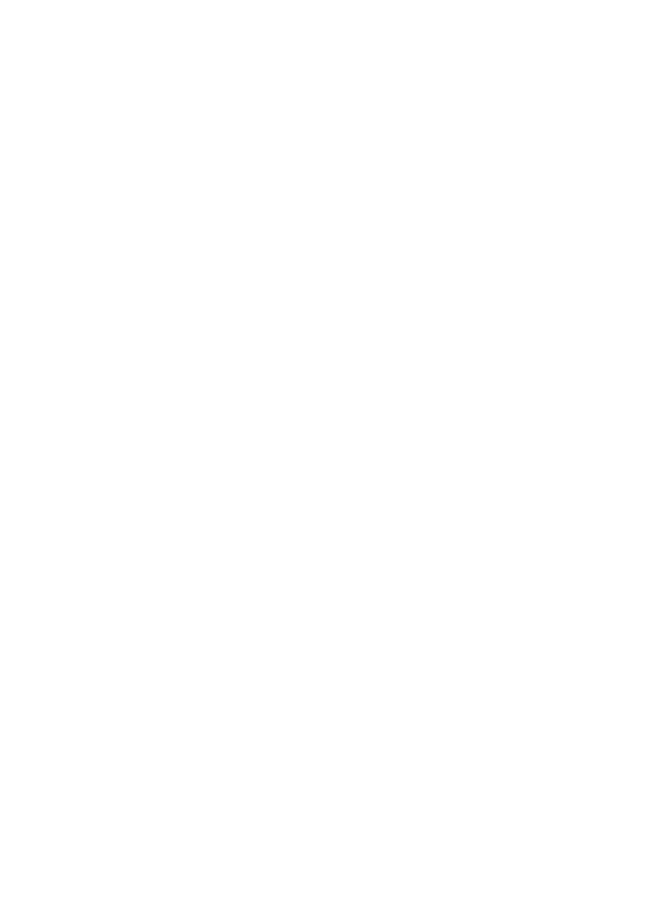
Когда аналитику удавалось сказать, что сессия окончена, она либо продолжала разговор, пока дверь за ней не закрывалась, либо приходила в ярость оттого, что он прерывает ее, и уходила с сердитой гримасой. Перерывы на выходные и более длительные расставания вызывали у нее сильные регрессивные состояния и многочисленные кошмарные сновидения. Ей снились наводнения, потопы, дом на крутом обрыве, преследующие ее черные мужчины. Содержанием ее фантазий в такие дни становились разнообразные увечья. В первом сновидении в ходе анализа Каролина увидела своего мужа и аналитика, сидящих в общей комнате. Она пошла к холодильнику и что-то вынула. Это было тело замороженного трупа без конечностей. Она показала его мужчинам, а те начали им забавляться, подбрасывая его и смеясь. Ранние сессии были отмечены почти непрерывным потоком ассоциаций.
Аналитик обнаруживал, что ему трудно думать и самостоятельно формулировать цельное понимание их скрытого значения. Из-за этого ему не удалось избежать убеждения, что пациентка проективно вкладывает в него свою тревогу и беспомощность, чтобы избавиться от этих чувств. Однако постепенно стало ясно, что Каролина была напугана аналитиком и терапией: она боялась, что ее подвергнут жестокому лечению, сведут с ума и потом оставят как безнадежный случай. Эти страхи были проинтерпретированы ей как свидетельства отсутствия доверия и нежелания зависеть от аналитика. Такие интерпретации успокоили ее на время и вызвали воспоминания раннего детства.
Когда аналитику удавалось сказать, что сессия окончена, она либо продолжала разговор, пока дверь за ней не закрывалась, либо приходила в ярость оттого, что он прерывает ее, и уходила с сердитой гримасой. Перерывы на выходные и более длительные расставания вызывали у нее сильные регрессивные состояния и многочисленные кошмарные сновидения. Ей снились наводнения, потопы, дом на крутом обрыве, преследующие ее черные мужчины. Содержанием ее фантазий в такие дни становились разнообразные увечья. В первом сновидении в ходе анализа Каролина увидела своего мужа и аналитика, сидящих в общей комнате. Она пошла к холодильнику и что-то вынула. Это было тело замороженного трупа без конечностей. Она показала его мужчинам, а те начали им забавляться, подбрасывая его и смеясь. Ранние сессии были отмечены почти непрерывным потоком ассоциаций.
Аналитик обнаруживал, что ему трудно думать и самостоятельно формулировать цельное понимание их скрытого значения. Из-за этого ему не удалось избежать убеждения, что пациентка проективно вкладывает в него свою тревогу и беспомощность, чтобы избавиться от этих чувств. Однако постепенно стало ясно, что Каролина была напугана аналитиком и терапией: она боялась, что ее подвергнут жестокому лечению, сведут с ума и потом оставят как безнадежный случай. Эти страхи были проинтерпретированы ей как свидетельства отсутствия доверия и нежелания зависеть от аналитика. Такие интерпретации успокоили ее на время и вызвали воспоминания раннего детства.
Каролина родилась через два года, и ей многократно говорили, что роды были очень трудными. Через три года у нее родился брат. Это рождение было еще более тяжелым и привело к серьезным повреждениям тазовых тканей у матери. Впоследствии мать слегла в постель с депрессией, которая продолжалась в течение многих месяцев, во время которых ее болезнь выражалась в целом спектре ипохондрическихи соматических симптомов. После этой болезни мать стала относиться к Каролине так, как будто эта маленькая девочка была продолжением ее собственного дефектного, нездорового Я. На каждый чих она реагировала как на предвестник смерти, таскала Каролину от доктора к доктору и не отпускала ее в школу в течение двух лет. Поскольку Каролина и ее здоровье стали единственным занятием матери, возникли сильные конфликты, главным образом сосредоточенные на том, что ребенок должен есть, когда он должен спать, но особенную озабоченность у матери вызывала проблема стула Каролины.
По мере прогресса лечения аналитик отметил, что Каролине в начале недели становилось лучше, а к ее концу — хуже. Выходные были катастрофами; в эти периоды уровень мышления и вообще функционирования пациентки был минимальным. Аналитик считал, что этот материал свидетельствует о неспособности Каролины сохранять выстраиваемый на сессиях образ хорошего объекта: ее состояние практически полностью возвращалось к исходной нарушенности за время расставаний. Она возобновляла анализ в полной беспомощности. Каролина вновь и вновь жаловалась, что анализ ей не помогает, а порой, по-видимому, забывая то состояние, с которого она начала лечение, гневно заявляла об ответственности аналитика за ее боль и отсутствие прогресса. Аналитику было нетрудно придти к заключению, что архаические состояния спутанности и дезинтеграции, в которые впадала Каролина, связаны с устойчивым расщеплением, что ее хорошие объекты удерживались на расстоянии от плохих объектов, что их синтез активно избегался и, наконец, что она не могла одновременно принять «хорошесть» аналитика и разлуку с ним. Она сопротивлялась его недоступности по выходным, а интерпретации, которые аналитик считал содержательными и полезными, она умышленно истолковывала как стремление принести ей страдание.
Любая попытка с его стороны объяснить ей эту ситуацию, несмотря на всю его осторожность, тактичность и эмпатию, воспринималась ею как еще одна атака на нее. В процессе лечения возник еще один «симптом». Однажды она появилась в красивой юбке и жакете, хорошенькой блузке, модных туфлях и с сумочкой, что поразительно контрастировало с ее обычным нарядом — джинсами и кроссовками. Сильно смущаясь, она сообщила, что «закутила»: купила себе три модные вещи, несколько пар обуви и кучу украшений. Она призналась, что делает это периодически помимо своей воли. Каролина знала, что, придя домой, спрячет все эти вещи и, возможно, никогда не сможет надеть, потому что муж был бы в бешенстве. Он бы испугался ее выходок и ужаснулся. Муж полностью контролировал семейные финансы и видел в ее «кутежах» симптомы безумия и опрометчивое нарушение их соглашения. Кроме того, его вполне понятные сомнения в успехе лечения супруги теперь получали дополнительное подтверждение. Аналитик чувствовал, чтое сли ее намерение состояло в том, чтобы спроецировать на него тревогу за собственное поведение и таким образом избежать ответственности, то она не могла изобрести болееэ ффективного средства. Он также был поражен тем, в какие крайности она внезапно и бесконтрольно впадала, и пытался, смотреть на ее «кутежи» с этой точки зрения (что ни к чему не привело). Позднее он узнал, что Каролина не покупала других вещей в течение трех лет.
Страхи Каролины относительно аналитика и анализа сохранялись. В ее сновидениях постоянно встречались обжигающие солнца, китайские пытки и чудовищно жестокие люди. Такие образы обычно интерпретировались как трансферентные проекции. Постепенно, как казалось, появился некоторый прогресс. Ее гнев пошел на убыль, тревога стала умеренной. Она была способна читать и в большей степени, чем прежде, вести социальную жизнь. Однако всякий раз, когда старые симптомы возвращались, она безжалостно ругала себя. Многократно проработав эти темы и возможные альтернативы, аналитик пришел к мнению, что нечто в пациентке противостояло успеху, делало невозможным улучшение с помощью лечения в ее браке и жизни в целом. Она предпринимала множество различных попыток, но каждый раз ее энтузиазм быстро улетучивался, она впадала в печаль, разочарование и злилась на себя. Казалось, столь длительное лечение смогло лишь подкрепить ее фантазию всемогущества о том, что переживание некоторого опыта магически разрешит ее трудности при полном отсутствии активности с ее стороны. Было похоже, что анализ зашел в тупик.
Хотя основные проблемы не были еще решены, перспектива окончания несомненно маячила, поскольку, как считал аналитик, продолжение анализа лишь воспрепятствует использованию важных инсайтов, полученных Каролиной в ходе предшествующей работы. Рационализации появлялись, подобно сорнякам после дождя. В ее возрасте проблемы привязанности или отделения от мужа казались непреодолимыми. Вполне можно было сказать, что в определенной степени она достигла некоторых результатов и уже не была столь подвержена той угрозе срыва, которая привела ее в анализ.
На четвертом году лечения, в то время как многие пограничные черты Каролины все еще оставались не затронутыми, аналитик решил пристально и окончательно взглянуть на ситуацию. Уже давно было очевидно, что Каролина разочарована и переживает свой провал, но теперь также стало ясно, что она чувствует разочарование аналитика в ней, который, как ей казалось, считает лечение их общей неудачей. Аналитик явно прежде недооценивал этот фактор —откликаемость Каролины на тонкие оттенки его чувств к ней. Позже выяснилось, что фактически ее настоятельная потребность быть одобряемой и опустошающее влияние на нее неодобрения аналитика, которое она ощущала, главным образом и повлияли на содержание первой фазы лечения. Депрессия, стремления, недостаток стабильной мотивации — все это становилось понятным с этой точки зрения. По мере того, как аналитик начал осознавать в себе те реакции, на которые реагировала Каролина, он уже не мог придерживаться мнения, что она воспринимает его лишь в рамках своих проекций. Осознание этого возвестило о второй фазе анализа.
На следующей сессии, после того, как Каролина пожаловалась на усталость и заговорила об окончании лечения, аналитик ответил, что осознает: процесс становится утомительным. Однако они могли бы еще раз хорошенько посмотреть на происходящее до окончания анализа. Вероятно, есть что-то, чего он не понимает, рассмотрение чего может оказаться полезным. Возможно, он передавал ей собственное возрастающее разочарование ею и самим собой, особенно в связи с затянувшимися симптомами, что, по-видимому, содействовало ее унынию и пренебрежению. На это Каролина отреагировала с энтузиазмом. «Да,— воскликнула она,— я ужасно себя чувствовала, когда ощущала ваше разочарование». К этому моменту Каролина уже «должна была» лучше себя чувствовать и контролировать свою диету,— ведь она уже так много узнала! Она безжалостно ругала себя за то, что недостаточно усердно старалась. Она была слабой, потакала своим слабостями,— должно быть, хотела сделать назло и мужу, и аналитику, как прежде она бросала вызов своей матери. Когда она сидела на диете, ей каким-то образом удавалось убить собственное желание есть, при этом не оставаясь голодной. Однако потом всегда что-то случалось, и ей вновь хотелось есть. Переживая собственную неудачу, она делала все более усердные попытки придерживаться диеты. Когда они наконец проваливались, она начинала себя ненавидеть за то, что подвела мужа и аналитика. Достигнув этой точки, она становилась абсолютно неспособной сдерживать себя: чем более одиноко ей становилось, тем больше она себя ненавидела и тем больше ей хотелось есть. Теперь перед аналитиком промелькнула конфигурация переноса, которая определяла курс анализа Каролины. Вместе они начали рассматривать то, что происходило с ней в одиночестве. Особое внимание они уделили ее субъективным переживаниям (хрупкая самооценка, ощущение дезорганизации, неспособность концентрироваться, возрастающее чувство омертвения, холод и онемение конечностей), пытаясь понять их в новой перспективе. Во всех этих симптомах аналитик различил признаки процесса фрагментациии глубокого дефекта структуры Я. Стало очевидно, какие большие надежды в смысле поддержания самоощущения Каролина возлагала на аналитика, пытаясь приобрести у него то, чего не получила в детстве. Когда аналитик интерпретировал ее архаические состояния и трансферентные потребности как проявления патологических механизмов расщепления и проекции, она переживала сильный стыди ненависть к себе. По своему влиянию на Каролину интерпретации патологических защит напоминали вызвавшую фрагментацию позицию ее матери, которая считала дочь дефектной и больной.
Для Каролины было особенно важно, чтобы аналитик был ею доволен. Она героически пыталась дать ему это понять в ранней фазе анализа, что, однако, рассматривалось им как защита. Он не осознавал, насколько настоятельной была ее специфическая потребность сделать его Я-объектом, который стал бы источником отзеркаливающего, подтверждающего отклика, на который ее поглощающая, депрессивная и ипохондрическая мать была неспособна в течение детских лет Каролины, имевших формирующее значение. За этой специфической потребностью скрывалась уязвимость Каролины к фрагментации, которая определяла ее переживания в течение анализа. Когда Я-объектная связь с аналитиком прерывалась из-за того, что аналитику не удавалось понять сущность ее субъективного опыта, либо связь терялась в течение выходных и отпусков,— хрупкое Я Каролины не могло сохранять слитность, стабильность и постоянство аффективного фона. Переживая распад, она компульсивно ела, стремясь укрепить себя и восполнить дефект в самоощущении и пытаясь через оральную самостимуляцию восстановить чувство, что она существует. После того, как была проработана эта структурная слабость, Каролина призналась, что становится зависимой от телевидения и радио.
Размышляя о смутном, тревожном беспокойстве, переживаемом ею в отсутствие сенсорной стимуляции, она поняла, что слово «пустота» не описывает ее переживания. Скорее она переживала «чувство дефицита», недостаток некоторой очень специфической, поддерживающей структуры, отсутствие важнейшей части себя — части, которая бы предотвратила крушение. Когда аналитик воспринимал ее симптомы как умаление его усилий, как проявление защиты или как свидетельство жадности, она чувствовала себя еще хуже. Пристыженная, она безжалостно порицала себя.
После того, как нарушение трансферентной связи было проанализировано в новой перспективе, в фокусе на фрагментированных состояниях и лежащем в их основании структурном дефиците, Каролина стала более живой, дружелюбной, возросли ее энтузиазм и способности. Ее желание понять состояния своей души возрастало в прямом соответствии с ее ощущением, что аналитик желает помочь ей в этом. Она выразила благодарность аналитику за то, что он начал признавать ее уязвимость и законность ее страхов. Однажды, будучи уверена, что аналитик поймет ее, она сказала:
«Мне очень важно донести до вас, насколько существенно было для меня то, что вы думаете обо мне. Без этого не могло быть никаких других изменений. Я не могла не соглашаться с вами, потому что боялась худших последствий. Т.е. я пыталась понять и использовать сказанное вами, даже если в результате я начинала ненавидеть саму себя. Я пыталась думать, что вы открываете для меня новый мир, новый способ видения вещей, который в конце концов приведет меня к лучшему. Когда же мне этого не удавалось, я упрекала себя».
С проработкой состояний фрагментации в связи с запускающими их переживаниями, которые возникали вследствие разрыва Я-объектной связи, постепенно ушли пограничная симптоматика и параноидоподобные страхи, а вместе с ними и то, что ранее рассматривалось как расщепление, проекция и неспособность интернализовать хороший объект. Каролина и аналитик теперь смогли лучше понять ее сновидение о замороженном туловище и ее ожиданиях быть осмеянной. Будучи маленькой девочкой, она часто испытывала страхи, которые высмеивались другими. Например, она не позволяла матери купать ее и мыть волосы, что доводило ту до бешенства. Никто не понимал, почему она боится своей матери,— на самом деле она боялась почти всего. Ее братья безжалостно дразнили ее за пугливость. От них она часто слышала: «Девчонки ничего не умеют!»
По мере снижения уязвимости у Каролины стала явно возрастать готовность воспользоваться помощью аналитика, чтобы разобраться в ранних взаимоотношениях с матерью, понять их влияние на нее, а также то, как важнейшие компоненты этих отношений повторялись в ее отношениях с мужем и с аналитиком. Теперь терапевт смог понять ранее незамеченную им символику. В ее магазинных «кутежах» одновременно прослеживались и страх, и сильная потребность, чтобы ее заметили. Девочкой, желая быть замеченной, она обращалась к своему отцу, чувствуя, что только через связь с ним она сможет освободиться от травматических отношений с матерью. «Но он был человек дистантный и стеснялся выражать свои чувства — даже по отношению к матери, хотя ее он любил,— вспоминала Каролина.— Когда ему приходилось во время разговора выражать чувства, он всегда смотрел в сторону. А потом мог сразу сменить тему, как будто ничего не было». Каролина вспомнила, как ей хотелось, чтобы отец поднял ее кверху, но он делал это только в исключительных случаях, когда это было частью игры. Ей казалось, он не делает этого, потому что она неправильно играет.
Она стремилась к большей близости с ним и надеялась на отклик. Каролина осознала, что когда аналитик спокойно, с улыбкой, приветствовал ее, она чувствовала себя реальной и согретой, а не замороженной, как обычно. Прежде, считая себя плохой и ненавидя себя, она думала, что ей так и надо. Каролина упрекала себя за то, что отец не замечал и не любил ее. В особенности она ругала свою гневливость. Не получая отклика от отца, она сердилась на него и в своем гневе видела серьезную угрозу, потому что потребность во внимании отца из-за этого имела еще меньше шансов на удовлетворение. Таким образом, Каролина оправдывала отца, обвиняя во всем собственный гнев (который был реакцией на его безучастность).
Подобная последовательность прослеживалась и в ее реакциях на неадекватный отклик, получаемый ею от мужа и от аналитика. Первоначально идеализация объектов не могла защитить Каролину от гнева. Жизненно необходимая идеализация сохранялась за счет гнева Каролины и ее способности отстаивать свои права тогда, когда ее интересами пренебрегали. Каролина тянулась к отцу не как к объекту эдиповой любви, а как к идеализируемому Я-объекту, чья ответная заинтересованность могла бы открыть для нее компенсаторную возможность возобновления прерванного развития. Когда в переносе ожило это стремление, ассоциации привели ее к воспоминаниям о четырех- и пятилетнем возрасте. Эти воспоминания ясно демонстрировали, как сильно она нуждалась в том, чтобы отец заметил и понял, чему она подвергается в отношениях с матерью. В процессе анализа она осознала, что должна вернуться в то время, поскольку там случилось что-то, сделавшее ее последующую жизнь почти невыносимой. До этого момента она помнила себя как хорошо одетую маленькую девочку, в последующий период жизни она чувствовала себя оборванкой.
Когда Каролине было около четырех лет, ее мать, которая только что оправилась от длительной депрессии, возобновила свое участие в церковных службах в качестве органистки и руководительницы хора. Церковь и маленькая девочка в значительной степени компенсировали ограниченность мира матери. Но даже тогда мать часто на весь день оставалась в постели, говоря: «Я знаю: сегодня я не смогу встать». Каролина вспомнила, что в тот период ей захотелось научиться играть на фортепьяно. Не спрашивая желания Каролины, мать взяла задачу обучения на себя. Каролина вспомнила, что здесь, как и во всем остальном, мать требовала строгого порядка: сначала упражнения только для пальцев, без инструмента, и только затем — реальный урок за пианино. Мать была таким учителем, который подавляет ученика. Когда Каролина умоляющим тоном произносила: «Я не могу»,—она начинала сердиться. Позже Каролина поняла, что гнев матери был адресован ее собственному непокорному Я, которое она не отделяла от дочери. Матери очень хотелось, чтобы дочь, подобно ей самой, не вставала с постели, чтобы никто не брался и даже не хотел взяться за дела на кухне. Она утверждала, что Каролина не заботится о ней и не дорожит ею. Каролина приходила в ужас, когда видела, что мать верит в это. Но впоследствии она стала говорить себе, что, возможно, мать права и она никогда не сможет заботиться о ком-то, если не могла позаботиться о матери. Непонимание матери запугало Каролину настолько, что она находила облегчение, считая себя плохой.
«Почему ты не можешь заниматься? — могла спросить ее мать.— Ведь нужно всего лишь делать движения пальцами!» Мать демонстрировала ей нужные движения, затем брала пальцы Каролины и показывала вновь. Причиной неудач считались непослушание и упрямство Каролины. В конце концов мать доставала хлыстик, и Каролина холодела и съеживалась. Это был черный тисненый кожаный хлыст — замечательное орудие пресечения детского баловства. Хотя они использовался лишь три-четыре раза, Каролина на всю жизнь запомнила страх и унижение. На этом ее музыкальная карьера закончились. Одно из наиболее ужасных переживаний детства Каролины состояло в ощущении, что что-то определенно устроено неправильно, но никто не знает об этом и не пытается исправить такое положение дел. Когда Каролина подходила к отцу, он менял тему разговора. Когда она шла к прислуге, та рассказывала ей о себе, о том, каково быть сиротой. Каролина была вынуждена найти способ сосуществования с матерью: она взяла на себя всю ответственность, убеждая себя, если она будет лучше, тогда мать полюбит ее.
«Это ужасно — быть во власти другого человека»,— заметила Каролина. Чувство, что что-то идет не так и никто об этом не знает и не хочет знать, повторилось в анализе, когда Каролина уверяла аналитика, что многие его интерпретации представляют для нее угрозу, однако ее слова оставались без ответа. Однажды Каролина осознала, что помимо порки есть еще что-то гораздо худшее. Одним из главных способов материнского контроля над ней была периодически повторяемая угроза оставить ее. Эта угроза висела над Каролиной всегда, в том числе в отношениях с мужем и в трансферентных отношениях. Она осознала, что эта угроза объективно могла быть совершенно ложной, но для нее она была в высшей степени реальной. Даже сейчас любой, в ком она нуждалась, мог подчинить ее себе, угрожая покинуть. Когда маленькая девочка «плохо себя вела» или капризничала, ее мать просто уходила прогуляться. «Это был почти выбор между моим собственным существованием и существованием матери, но не обеих»,— объяснила Каролина. Стал более понятным смысл замечания, брошенного ею в начале анализа: «Чтобы выжить, мне пришлось научиться ненавидеть свою мать!»
Каролина вспомнила, что их семья имела небольшой дом близ океана у устья реки. Ее мать боялась, что Каролина может утонуть, поэтому настаивала на обучении плаванию, ноне в небольшой реке, а в океане. Однако мать сама едва плавала. Каролина вспомнила свой ужас при приближении матери к ней. Она не могла позволить матери быть рядом! Она не могла выносить, когда на нее смотрели, так как знала, что прикосновение или взгляд тотчас приведет к потере себя, к состоянию, когда она не чувствовала себя. Мать часто говорила ей: «Ты можешь увидеть себя только через глаза кого-то другого». Каролина осознала, насколько сильно она нуждается в ком-то, чтобы увидеть себя. Находясь рядом с водой, Каролина кричала: «Я сделаю это сама; пожалуйста, дайте мне сделать это самой!»
Мать стояла над ней, холодно возражая: «Когда ты собираешься это сделать? Где ты собираешься это сделать?» Каролина часто фантазировала, как она убегает от матери и ее безжалостного воспитания. Однажды она сказала об этом в анализе: «Если бы у меня был отец, к которому я могла убежать, я бы сделала это!» Когда она видела других маленьких детей, с которыми гуляли и играли их отцы, она чувствовала себя сиротой. Ей очень хотелось убежать, но она переживала, что ей нечего будет есть. Наконец она задумала складывать еду в небольшие пакеты. Каролина вспомнила, как собирала книги о Тарзане и восхищалась его способностью выжить в джунглях, имея при себе только нож; она не желала ни от кого зависеть или подчиняться кому бы тони было. Однако постепенно ее мечты о побеге от матери потерпели крах. Она осознавала реальность и знала, что должна вернуться домой и смириться с существующими обстоятельствами.
На этой стадии анализа Каролина отметила, что ощущает себя более интегрированной. Аналитик предоставил ей возможность оживить в переносе Я-объектную связь с идеализированным отцом, помогающим ей понять ее патологическую связь с матерью и отделиться от нее. Все, о чем она размышляла, стало теперь яснее. Мысли и чувства стали иметь для нее больший смысл. Она чувствовала себя уверенней и сильнее, хотя все еще беспокоилась, что это состояние может оставить ее. Кроме того, ей стало легче придерживаться умеренной диеты. Медленно, но ощутимо она начала терять в весе. Она понимала, что могла бы добиться и большего, но все же чувствовала, что кризис благополучно миновал, и это действительно было так.
Каролина родилась через два года, и ей многократно говорили, что роды были очень трудными. Через три года у нее родился брат. Это рождение было еще более тяжелым и привело к серьезным повреждениям тазовых тканей у матери. Впоследствии мать слегла в постель с депрессией, которая продолжалась в течение многих месяцев, во время которых ее болезнь выражалась в целом спектре ипохондрическихи соматических симптомов. После этой болезни мать стала относиться к Каролине так, как будто эта маленькая девочка была продолжением ее собственного дефектного, нездорового Я. На каждый чих она реагировала как на предвестник смерти, таскала Каролину от доктора к доктору и не отпускала ее в школу в течение двух лет. Поскольку Каролина и ее здоровье стали единственным занятием матери, возникли сильные конфликты, главным образом сосредоточенные на том, что ребенок должен есть, когда он должен спать, но особенную озабоченность у матери вызывала проблема стула Каролины.
По мере прогресса лечения аналитик отметил, что Каролине в начале недели становилось лучше, а к ее концу — хуже. Выходные были катастрофами; в эти периоды уровень мышления и вообще функционирования пациентки был минимальным. Аналитик считал, что этот материал свидетельствует о неспособности Каролины сохранять выстраиваемый на сессиях образ хорошего объекта: ее состояние практически полностью возвращалось к исходной нарушенности за время расставаний. Она возобновляла анализ в полной беспомощности. Каролина вновь и вновь жаловалась, что анализ ей не помогает, а порой, по-видимому, забывая то состояние, с которого она начала лечение, гневно заявляла об ответственности аналитика за ее боль и отсутствие прогресса. Аналитику было нетрудно придти к заключению, что архаические состояния спутанности и дезинтеграции, в которые впадала Каролина, связаны с устойчивым расщеплением, что ее хорошие объекты удерживались на расстоянии от плохих объектов, что их синтез активно избегался и, наконец, что она не могла одновременно принять «хорошесть» аналитика и разлуку с ним. Она сопротивлялась его недоступности по выходным, а интерпретации, которые аналитик считал содержательными и полезными, она умышленно истолковывала как стремление принести ей страдание.
Любая попытка с его стороны объяснить ей эту ситуацию, несмотря на всю его осторожность, тактичность и эмпатию, воспринималась ею как еще одна атака на нее. В процессе лечения возник еще один «симптом». Однажды она появилась в красивой юбке и жакете, хорошенькой блузке, модных туфлях и с сумочкой, что поразительно контрастировало с ее обычным нарядом — джинсами и кроссовками. Сильно смущаясь, она сообщила, что «закутила»: купила себе три модные вещи, несколько пар обуви и кучу украшений. Она призналась, что делает это периодически помимо своей воли. Каролина знала, что, придя домой, спрячет все эти вещи и, возможно, никогда не сможет надеть, потому что муж был бы в бешенстве. Он бы испугался ее выходок и ужаснулся. Муж полностью контролировал семейные финансы и видел в ее «кутежах» симптомы безумия и опрометчивое нарушение их соглашения. Кроме того, его вполне понятные сомнения в успехе лечения супруги теперь получали дополнительное подтверждение. Аналитик чувствовал, чтое сли ее намерение состояло в том, чтобы спроецировать на него тревогу за собственное поведение и таким образом избежать ответственности, то она не могла изобрести болееэ ффективного средства. Он также был поражен тем, в какие крайности она внезапно и бесконтрольно впадала, и пытался, смотреть на ее «кутежи» с этой точки зрения (что ни к чему не привело). Позднее он узнал, что Каролина не покупала других вещей в течение трех лет.
Страхи Каролины относительно аналитика и анализа сохранялись. В ее сновидениях постоянно встречались обжигающие солнца, китайские пытки и чудовищно жестокие люди. Такие образы обычно интерпретировались как трансферентные проекции. Постепенно, как казалось, появился некоторый прогресс. Ее гнев пошел на убыль, тревога стала умеренной. Она была способна читать и в большей степени, чем прежде, вести социальную жизнь. Однако всякий раз, когда старые симптомы возвращались, она безжалостно ругала себя. Многократно проработав эти темы и возможные альтернативы, аналитик пришел к мнению, что нечто в пациентке противостояло успеху, делало невозможным улучшение с помощью лечения в ее браке и жизни в целом. Она предпринимала множество различных попыток, но каждый раз ее энтузиазм быстро улетучивался, она впадала в печаль, разочарование и злилась на себя. Казалось, столь длительное лечение смогло лишь подкрепить ее фантазию всемогущества о том, что переживание некоторого опыта магически разрешит ее трудности при полном отсутствии активности с ее стороны. Было похоже, что анализ зашел в тупик.
Хотя основные проблемы не были еще решены, перспектива окончания несомненно маячила, поскольку, как считал аналитик, продолжение анализа лишь воспрепятствует использованию важных инсайтов, полученных Каролиной в ходе предшествующей работы. Рационализации появлялись, подобно сорнякам после дождя. В ее возрасте проблемы привязанности или отделения от мужа казались непреодолимыми. Вполне можно было сказать, что в определенной степени она достигла некоторых результатов и уже не была столь подвержена той угрозе срыва, которая привела ее в анализ.
На четвертом году лечения, в то время как многие пограничные черты Каролины все еще оставались не затронутыми, аналитик решил пристально и окончательно взглянуть на ситуацию. Уже давно было очевидно, что Каролина разочарована и переживает свой провал, но теперь также стало ясно, что она чувствует разочарование аналитика в ней, который, как ей казалось, считает лечение их общей неудачей. Аналитик явно прежде недооценивал этот фактор —откликаемость Каролины на тонкие оттенки его чувств к ней. Позже выяснилось, что фактически ее настоятельная потребность быть одобряемой и опустошающее влияние на нее неодобрения аналитика, которое она ощущала, главным образом и повлияли на содержание первой фазы лечения. Депрессия, стремления, недостаток стабильной мотивации — все это становилось понятным с этой точки зрения. По мере того, как аналитик начал осознавать в себе те реакции, на которые реагировала Каролина, он уже не мог придерживаться мнения, что она воспринимает его лишь в рамках своих проекций. Осознание этого возвестило о второй фазе анализа.
На следующей сессии, после того, как Каролина пожаловалась на усталость и заговорила об окончании лечения, аналитик ответил, что осознает: процесс становится утомительным. Однако они могли бы еще раз хорошенько посмотреть на происходящее до окончания анализа. Вероятно, есть что-то, чего он не понимает, рассмотрение чего может оказаться полезным. Возможно, он передавал ей собственное возрастающее разочарование ею и самим собой, особенно в связи с затянувшимися симптомами, что, по-видимому, содействовало ее унынию и пренебрежению. На это Каролина отреагировала с энтузиазмом. «Да,— воскликнула она,— я ужасно себя чувствовала, когда ощущала ваше разочарование». К этому моменту Каролина уже «должна была» лучше себя чувствовать и контролировать свою диету,— ведь она уже так много узнала! Она безжалостно ругала себя за то, что недостаточно усердно старалась. Она была слабой, потакала своим слабостями,— должно быть, хотела сделать назло и мужу, и аналитику, как прежде она бросала вызов своей матери. Когда она сидела на диете, ей каким-то образом удавалось убить собственное желание есть, при этом не оставаясь голодной. Однако потом всегда что-то случалось, и ей вновь хотелось есть. Переживая собственную неудачу, она делала все более усердные попытки придерживаться диеты. Когда они наконец проваливались, она начинала себя ненавидеть за то, что подвела мужа и аналитика. Достигнув этой точки, она становилась абсолютно неспособной сдерживать себя: чем более одиноко ей становилось, тем больше она себя ненавидела и тем больше ей хотелось есть. Теперь перед аналитиком промелькнула конфигурация переноса, которая определяла курс анализа Каролины. Вместе они начали рассматривать то, что происходило с ней в одиночестве. Особое внимание они уделили ее субъективным переживаниям (хрупкая самооценка, ощущение дезорганизации, неспособность концентрироваться, возрастающее чувство омертвения, холод и онемение конечностей), пытаясь понять их в новой перспективе. Во всех этих симптомах аналитик различил признаки процесса фрагментациии глубокого дефекта структуры Я. Стало очевидно, какие большие надежды в смысле поддержания самоощущения Каролина возлагала на аналитика, пытаясь приобрести у него то, чего не получила в детстве. Когда аналитик интерпретировал ее архаические состояния и трансферентные потребности как проявления патологических механизмов расщепления и проекции, она переживала сильный стыди ненависть к себе. По своему влиянию на Каролину интерпретации патологических защит напоминали вызвавшую фрагментацию позицию ее матери, которая считала дочь дефектной и больной.
Для Каролины было особенно важно, чтобы аналитик был ею доволен. Она героически пыталась дать ему это понять в ранней фазе анализа, что, однако, рассматривалось им как защита. Он не осознавал, насколько настоятельной была ее специфическая потребность сделать его Я-объектом, который стал бы источником отзеркаливающего, подтверждающего отклика, на который ее поглощающая, депрессивная и ипохондрическая мать была неспособна в течение детских лет Каролины, имевших формирующее значение. За этой специфической потребностью скрывалась уязвимость Каролины к фрагментации, которая определяла ее переживания в течение анализа. Когда Я-объектная связь с аналитиком прерывалась из-за того, что аналитику не удавалось понять сущность ее субъективного опыта, либо связь терялась в течение выходных и отпусков,— хрупкое Я Каролины не могло сохранять слитность, стабильность и постоянство аффективного фона. Переживая распад, она компульсивно ела, стремясь укрепить себя и восполнить дефект в самоощущении и пытаясь через оральную самостимуляцию восстановить чувство, что она существует. После того, как была проработана эта структурная слабость, Каролина призналась, что становится зависимой от телевидения и радио.
Размышляя о смутном, тревожном беспокойстве, переживаемом ею в отсутствие сенсорной стимуляции, она поняла, что слово «пустота» не описывает ее переживания. Скорее она переживала «чувство дефицита», недостаток некоторой очень специфической, поддерживающей структуры, отсутствие важнейшей части себя — части, которая бы предотвратила крушение. Когда аналитик воспринимал ее симптомы как умаление его усилий, как проявление защиты или как свидетельство жадности, она чувствовала себя еще хуже. Пристыженная, она безжалостно порицала себя.
После того, как нарушение трансферентной связи было проанализировано в новой перспективе, в фокусе на фрагментированных состояниях и лежащем в их основании структурном дефиците, Каролина стала более живой, дружелюбной, возросли ее энтузиазм и способности. Ее желание понять состояния своей души возрастало в прямом соответствии с ее ощущением, что аналитик желает помочь ей в этом. Она выразила благодарность аналитику за то, что он начал признавать ее уязвимость и законность ее страхов. Однажды, будучи уверена, что аналитик поймет ее, она сказала:
«Мне очень важно донести до вас, насколько существенно было для меня то, что вы думаете обо мне. Без этого не могло быть никаких других изменений. Я не могла не соглашаться с вами, потому что боялась худших последствий. Т.е. я пыталась понять и использовать сказанное вами, даже если в результате я начинала ненавидеть саму себя. Я пыталась думать, что вы открываете для меня новый мир, новый способ видения вещей, который в конце концов приведет меня к лучшему. Когда же мне этого не удавалось, я упрекала себя».
С проработкой состояний фрагментации в связи с запускающими их переживаниями, которые возникали вследствие разрыва Я-объектной связи, постепенно ушли пограничная симптоматика и параноидоподобные страхи, а вместе с ними и то, что ранее рассматривалось как расщепление, проекция и неспособность интернализовать хороший объект. Каролина и аналитик теперь смогли лучше понять ее сновидение о замороженном туловище и ее ожиданиях быть осмеянной. Будучи маленькой девочкой, она часто испытывала страхи, которые высмеивались другими. Например, она не позволяла матери купать ее и мыть волосы, что доводило ту до бешенства. Никто не понимал, почему она боится своей матери,— на самом деле она боялась почти всего. Ее братья безжалостно дразнили ее за пугливость. От них она часто слышала: «Девчонки ничего не умеют!»
По мере снижения уязвимости у Каролины стала явно возрастать готовность воспользоваться помощью аналитика, чтобы разобраться в ранних взаимоотношениях с матерью, понять их влияние на нее, а также то, как важнейшие компоненты этих отношений повторялись в ее отношениях с мужем и с аналитиком. Теперь терапевт смог понять ранее незамеченную им символику. В ее магазинных «кутежах» одновременно прослеживались и страх, и сильная потребность, чтобы ее заметили. Девочкой, желая быть замеченной, она обращалась к своему отцу, чувствуя, что только через связь с ним она сможет освободиться от травматических отношений с матерью. «Но он был человек дистантный и стеснялся выражать свои чувства — даже по отношению к матери, хотя ее он любил,— вспоминала Каролина.— Когда ему приходилось во время разговора выражать чувства, он всегда смотрел в сторону. А потом мог сразу сменить тему, как будто ничего не было». Каролина вспомнила, как ей хотелось, чтобы отец поднял ее кверху, но он делал это только в исключительных случаях, когда это было частью игры. Ей казалось, он не делает этого, потому что она неправильно играет.
Она стремилась к большей близости с ним и надеялась на отклик. Каролина осознала, что когда аналитик спокойно, с улыбкой, приветствовал ее, она чувствовала себя реальной и согретой, а не замороженной, как обычно. Прежде, считая себя плохой и ненавидя себя, она думала, что ей так и надо. Каролина упрекала себя за то, что отец не замечал и не любил ее. В особенности она ругала свою гневливость. Не получая отклика от отца, она сердилась на него и в своем гневе видела серьезную угрозу, потому что потребность во внимании отца из-за этого имела еще меньше шансов на удовлетворение. Таким образом, Каролина оправдывала отца, обвиняя во всем собственный гнев (который был реакцией на его безучастность).
Подобная последовательность прослеживалась и в ее реакциях на неадекватный отклик, получаемый ею от мужа и от аналитика. Первоначально идеализация объектов не могла защитить Каролину от гнева. Жизненно необходимая идеализация сохранялась за счет гнева Каролины и ее способности отстаивать свои права тогда, когда ее интересами пренебрегали. Каролина тянулась к отцу не как к объекту эдиповой любви, а как к идеализируемому Я-объекту, чья ответная заинтересованность могла бы открыть для нее компенсаторную возможность возобновления прерванного развития. Когда в переносе ожило это стремление, ассоциации привели ее к воспоминаниям о четырех- и пятилетнем возрасте. Эти воспоминания ясно демонстрировали, как сильно она нуждалась в том, чтобы отец заметил и понял, чему она подвергается в отношениях с матерью. В процессе анализа она осознала, что должна вернуться в то время, поскольку там случилось что-то, сделавшее ее последующую жизнь почти невыносимой. До этого момента она помнила себя как хорошо одетую маленькую девочку, в последующий период жизни она чувствовала себя оборванкой.
Когда Каролине было около четырех лет, ее мать, которая только что оправилась от длительной депрессии, возобновила свое участие в церковных службах в качестве органистки и руководительницы хора. Церковь и маленькая девочка в значительной степени компенсировали ограниченность мира матери. Но даже тогда мать часто на весь день оставалась в постели, говоря: «Я знаю: сегодня я не смогу встать». Каролина вспомнила, что в тот период ей захотелось научиться играть на фортепьяно. Не спрашивая желания Каролины, мать взяла задачу обучения на себя. Каролина вспомнила, что здесь, как и во всем остальном, мать требовала строгого порядка: сначала упражнения только для пальцев, без инструмента, и только затем — реальный урок за пианино. Мать была таким учителем, который подавляет ученика. Когда Каролина умоляющим тоном произносила: «Я не могу»,—она начинала сердиться. Позже Каролина поняла, что гнев матери был адресован ее собственному непокорному Я, которое она не отделяла от дочери. Матери очень хотелось, чтобы дочь, подобно ей самой, не вставала с постели, чтобы никто не брался и даже не хотел взяться за дела на кухне. Она утверждала, что Каролина не заботится о ней и не дорожит ею. Каролина приходила в ужас, когда видела, что мать верит в это. Но впоследствии она стала говорить себе, что, возможно, мать права и она никогда не сможет заботиться о ком-то, если не могла позаботиться о матери. Непонимание матери запугало Каролину настолько, что она находила облегчение, считая себя плохой.
«Почему ты не можешь заниматься? — могла спросить ее мать.— Ведь нужно всего лишь делать движения пальцами!» Мать демонстрировала ей нужные движения, затем брала пальцы Каролины и показывала вновь. Причиной неудач считались непослушание и упрямство Каролины. В конце концов мать доставала хлыстик, и Каролина холодела и съеживалась. Это был черный тисненый кожаный хлыст — замечательное орудие пресечения детского баловства. Хотя они использовался лишь три-четыре раза, Каролина на всю жизнь запомнила страх и унижение. На этом ее музыкальная карьера закончились. Одно из наиболее ужасных переживаний детства Каролины состояло в ощущении, что что-то определенно устроено неправильно, но никто не знает об этом и не пытается исправить такое положение дел. Когда Каролина подходила к отцу, он менял тему разговора. Когда она шла к прислуге, та рассказывала ей о себе, о том, каково быть сиротой. Каролина была вынуждена найти способ сосуществования с матерью: она взяла на себя всю ответственность, убеждая себя, если она будет лучше, тогда мать полюбит ее.
«Это ужасно — быть во власти другого человека»,— заметила Каролина. Чувство, что что-то идет не так и никто об этом не знает и не хочет знать, повторилось в анализе, когда Каролина уверяла аналитика, что многие его интерпретации представляют для нее угрозу, однако ее слова оставались без ответа. Однажды Каролина осознала, что помимо порки есть еще что-то гораздо худшее. Одним из главных способов материнского контроля над ней была периодически повторяемая угроза оставить ее. Эта угроза висела над Каролиной всегда, в том числе в отношениях с мужем и в трансферентных отношениях. Она осознала, что эта угроза объективно могла быть совершенно ложной, но для нее она была в высшей степени реальной. Даже сейчас любой, в ком она нуждалась, мог подчинить ее себе, угрожая покинуть. Когда маленькая девочка «плохо себя вела» или капризничала, ее мать просто уходила прогуляться. «Это был почти выбор между моим собственным существованием и существованием матери, но не обеих»,— объяснила Каролина. Стал более понятным смысл замечания, брошенного ею в начале анализа: «Чтобы выжить, мне пришлось научиться ненавидеть свою мать!»
Каролина вспомнила, что их семья имела небольшой дом близ океана у устья реки. Ее мать боялась, что Каролина может утонуть, поэтому настаивала на обучении плаванию, ноне в небольшой реке, а в океане. Однако мать сама едва плавала. Каролина вспомнила свой ужас при приближении матери к ней. Она не могла позволить матери быть рядом! Она не могла выносить, когда на нее смотрели, так как знала, что прикосновение или взгляд тотчас приведет к потере себя, к состоянию, когда она не чувствовала себя. Мать часто говорила ей: «Ты можешь увидеть себя только через глаза кого-то другого». Каролина осознала, насколько сильно она нуждается в ком-то, чтобы увидеть себя. Находясь рядом с водой, Каролина кричала: «Я сделаю это сама; пожалуйста, дайте мне сделать это самой!»
Мать стояла над ней, холодно возражая: «Когда ты собираешься это сделать? Где ты собираешься это сделать?» Каролина часто фантазировала, как она убегает от матери и ее безжалостного воспитания. Однажды она сказала об этом в анализе: «Если бы у меня был отец, к которому я могла убежать, я бы сделала это!» Когда она видела других маленьких детей, с которыми гуляли и играли их отцы, она чувствовала себя сиротой. Ей очень хотелось убежать, но она переживала, что ей нечего будет есть. Наконец она задумала складывать еду в небольшие пакеты. Каролина вспомнила, как собирала книги о Тарзане и восхищалась его способностью выжить в джунглях, имея при себе только нож; она не желала ни от кого зависеть или подчиняться кому бы тони было. Однако постепенно ее мечты о побеге от матери потерпели крах. Она осознавала реальность и знала, что должна вернуться домой и смириться с существующими обстоятельствами.
На этой стадии анализа Каролина отметила, что ощущает себя более интегрированной. Аналитик предоставил ей возможность оживить в переносе Я-объектную связь с идеализированным отцом, помогающим ей понять ее патологическую связь с матерью и отделиться от нее. Все, о чем она размышляла, стало теперь яснее. Мысли и чувства стали иметь для нее больший смысл. Она чувствовала себя уверенней и сильнее, хотя все еще беспокоилась, что это состояние может оставить ее. Кроме того, ей стало легче придерживаться умеренной диеты. Медленно, но ощутимо она начала терять в весе. Она понимала, что могла бы добиться и большего, но все же чувствовала, что кризис благополучно миновал, и это действительно было так.
...
Неудачная архаическая Я-объектная связь в отношениях с аналитиком или с терапевтом возникает не всегда, однако это весьма вероятно, особенно с вовлечением в терапевтический перенос Я-объектных потребностей пациента. Важно подчеркнуть, что заявление о всецело ятрогенной болезни противоречит нашей концепции интерсубъективного поля и не учитывает вклада архаических состояний пациента, задержанных потребностей и подверженного фрагментации Я в формирование психологического поля. Если мы рассматриваем терапевтическую ситуацию как интерсубъективное поле, тогда мы должны видеть, что манифестная психопатология пациента всегда детерминирована как расстройством Я пациента, так и способностью терапевта к его пониманию.
...
Нам хочется подчеркнуть, что Я-объектные провалы детерминированы в частности и субъективными переживаниями пациента в процессе развития, следовательно, их появление в процессе лечения не следует рассматривать как объективный показатель технической некомпетентности или неадекватности терапевта. Они призваны воссоздать в переносе раннюю историю депривации и препятствия, возникавшие у субъекта в процессе развития. Таким образом, терапевтическая задача состоит не в предотвращении переживаний Я-объектного провала, а в их анализе, где точкой отсчета становится уникальная субъективная реальность пациента.
Если исходить из точки зрения, что в переносе оживают задержанные потребности архаической природы, кажется неизбежным, что терапевт “подведет” пациента, не сможет оправдать его ожиданий, а в ответ на это могут появиться пограничные симптомы. Но, как свидетельствует наш клинический опыт, лишь в тех случаях, когда субъективный смысл и значимость для пациента этих несовпадений и Я-объектных провалов хронически не встречают понимания и не анализируются (нередко по той причине, что это поставило бы под угрозу потребности Я-организации терапевта), что препятствует установлению терапевтической связи, только тогда пограничные явления приобретают форму так называемой “пограничной личностной организации”. Такое понимание пограничной симптоматики иллюстрирует общий психологический принцип, согласно которому психопатология не может быть психоаналитически понята, если во внимание не принимаются те интерсубъективные контексты, в которых она возникает и отступает.
...
Неудачная архаическая Я-объектная связь в отношениях с аналитиком или с терапевтом возникает не всегда, однако это весьма вероятно, особенно с вовлечением в терапевтический перенос Я-объектных потребностей пациента. Важно подчеркнуть, что заявление о всецело ятрогенной болезни противоречит нашей концепции интерсубъективного поля и не учитывает вклада архаических состояний пациента, задержанных потребностей и подверженного фрагментации Я в формирование психологического поля. Если мы рассматриваем терапевтическую ситуацию как интерсубъективное поле, тогда мы должны видеть, что манифестная психопатология пациента всегда детерминирована как расстройством Я пациента, так и способностью терапевта к его пониманию.
...
Нам хочется подчеркнуть, что Я-объектные провалы детерминированы в частности и субъективными переживаниями пациента в процессе развития, следовательно, их появление в процессе лечения не следует рассматривать как объективный показатель технической некомпетентности или неадекватности терапевта. Они призваны воссоздать в переносе раннюю историю депривации и препятствия, возникавшие у субъекта в процессе развития. Таким образом, терапевтическая задача состоит не в предотвращении переживаний Я-объектного провала, а в их анализе, где точкой отсчета становится уникальная субъективная реальность пациента.
Если исходить из точки зрения, что в переносе оживают задержанные потребности архаической природы, кажется неизбежным, что терапевт “подведет” пациента, не сможет оправдать его ожиданий, а в ответ на это могут появиться пограничные симптомы. Но, как свидетельствует наш клинический опыт, лишь в тех случаях, когда субъективный смысл и значимость для пациента этих несовпадений и Я-объектных провалов хронически не встречают понимания и не анализируются (нередко по той причине, что это поставило бы под угрозу потребности Я-организации терапевта), что препятствует установлению терапевтической связи, только тогда пограничные явления приобретают форму так называемой “пограничной личностной организации”. Такое понимание пограничной симптоматики иллюстрирует общий психологический принцип, согласно которому психопатология не может быть психоаналитически понята, если во внимание не принимаются те интерсубъективные контексты, в которых она возникает и отступает.
